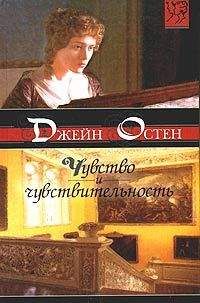Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]
Миссис Дэшвуд, чья безмерная тревога успела в последние часы пути убедить ее, что Марианны уже нет на свете, не нашла в себе силы осведомиться о ней или даже поздороваться с Элинор, но та, не ожидая ни слов привета, ни вопросов, тотчас сообщила радостное известие, и миссис Дэшвуд с обычной своей чувствительностью была обессилена счастьем даже еще больше, чем минуту назад — горем. Элинор с полковником проводили ее в гостиную, поддерживая под руки, и там, проливая слезы радости, все еще не обретя дара речи, она вновь и вновь обнимала Элинор, а в промежутках благодарно пожимала руку своего дорогого друга, обращая на него взгляд, который говорил и о ее признательности, и об убеждении, что он разделяет с ней все счастье этого мига, Но разделял он это счастье в молчании даже еще более глубоком, чем ее собственное.
Едва миссис Дэшвуд немного оправилась, она пожелала немедля подняться к Марианне, и двe минуты спустя уже ласкала свою любимую дочь, ставшую ей еще дороже из-за долгой разлуки, тяжкого горя и едва миновавшей опасности. Радость, с какой Элинор наблюдала их встречу, умерялась только боязнью, что Марианна теперь долго не сумеет уснуть. Однако, когда дело касалось жизни ее детей, миссис Дэшвуд умела быть сдержанной и осмотрительной, и Марианна, успокоенная мыслью, что мать с ней, и слишком слабая, чтобы разговаривать, охотно подчинилась уговорам своих преданных сиделок соблюдать молчание и постараться уснуть. Разумеется, миссис Дэшвуд пожелала дежурить у ее постели до утра, и Элинор, послушная настояниям матери, ушла к себе в спальню прилечь. Однако нервное раздражение долго мешало ей сомкнуть глаза, несмотря на предыдущую бессонную ночь и долгие часы томительной тревоги. Уиллоби, «бедный Уиллоби», как она теперь позволила себе его называть, не выходил у нее из головы. Нет, она ни за что на свете не отказалась бы выслушать его оправдания, то винила, то извиняла себя за то, что столь сурово судила о нем прежде. Но данное ему обещание рассказать о его признаниях сестре ее угнетало. Она страшилась его исполнить, страшилась впечатления, какое этот рассказ мог произвести на Марианну, боялась, что после подобного объяснения та уже никогда не будет счастлива с другим, и даже на миг пожелала, чтобы Уиллоби овдовел. Но тотчас вспомнила полковника Брэндона, попрекнула себя, всем сердцем решила, что своими страданиями и постоянством он куда больше, чем его соперник, заслужил в награду руку ее сестры, и от души пожелала миссис Уиллоби что угодно, кроме смерти.
Известие, с которым явился в Бартон полковник Брэндон, поразило миссис Дэшвуд меньше, чем можно было ожидать, ибо тревога ее давно уже стала невыносимой, и, опасаясь за Марианну, она, не ожидая новых писем, приготовилась одна отправиться в Кливленд в самый день его приезда и уже настолько собралась в дорогу, что ему пришлось лишь подождать, чтобы миссис Кэри заехала за Маргарет, которую мать не захотела взять с собой туда, где ей грозила опасность заразиться.
Марианна поправлялась с каждым днем, и веселость миссис Дэшвуд, ее сияющее лицо доказывали, что она и правда, как ей не надоедало повторять, одна из самых счастливых женщин в мире. Выслушав эти заверения, видя блаженный взгляд матери, Элинор иной раз спрашивала себя, не вовсе ли та забыла Эдварда. Однако миссис Дэшвуд, доверяя спокойствию, с каким Элинор написала ей о своих собственных обманутых надеждах, сейчас желала думать лишь о том, что еще увеличивало ее счастье. Марианна благополучно выздоравливала от болезни, опасности которой, как теперь начинала думать миссис Дэшвуд, немало способствовала она сама, поощряя злополучный интерес к Уиллоби; но у ее радости был и еще один источник, о котором Элинор не догадывалась. Впрочем, в неведении она оставалась лишь до той минуты, пока им с матерью не выпал случай поговорить наедине. И вот что она услышала:
— Наконец-то мы одни! Моя Элинор, тебе еще неизвестна вся глубина моего счастья. Полковник Брэндон любит Марианну! Я узнала это из его собственных уст.
Элинор, и довольная, и огорченная, удивленная и не удивленная, продолжала молча слушать.
— Ты никогда не была на меня похожа, милая Элинор, не то твоя сдержанность в такую минуту меня изумила бы. Если бы мне пришло в голову пожелать величайшего блага для нас, то я, ни минуты не задумываясь сказала бы: «Пусть полковник Брэндон станет мужем одной из моих дочерей!» Но я убеждена, что из вас двух Марианна будет с ним более счастлива.
Элинор чуть было не спросила, откуда у нее такая уверенность, заранее догадываясь, что суждение, которое она услышала бы, не опиралось бы на беспристрастное сравнение их возраста, характера или чувств. Но она знала, как ее мать, если что-либо особенно ее занимает, всегда в воображении уносится далеко вперед, и потому ограничилась улыбкой.
— Вчера в дороге он открыл мне свое сердце. Произошло это непреднамеренно, по воле случая. Я, как ты легко поверишь, была способна говорить только о моей девочке, и он не сумел скрыть своего горя. Я заметила, что оно не уступает моему собственному, и он, возможно, подумал, что просто дружба в глазах нынешнего света не допускает столь горячего сочувствия, а вернее, мне кажется, вообще ни о чем не подумал, но, поддавшись неодолимому порыву, поведал мне про свою глубокую, нежную, верную привязанность к Марианне. Он полюбил ее, моя Элинор, с той минуты, когда впервые ее увидел!
Но тут, как не преминула заметить про себя Элинор, речь и признания полковника Брэндона уже сменились плодами деятельной фантазии ее матушки — фантазии, рисовавшей все в красках, наиболее ей угодных,
— Его чувство к ней, бесконечно превосходящее то, которое испытывал или разыгрывал Уиллоби, куда более горячее, куда более искреннее и постоянное — а уж в этом мы сомневаться не можем! — не угасало, хотя он и видел злосчастное увлечение Марианны этим недостойным молодым человеком. И ни малейшего себялюбия! Он готов был отказаться от всякой надежды, лишь бы видеть ее счастливой — пусть с другим! Какой благородный дух! Какая прямота, какая искренность! Вот в нем обмануться нельзя!
— Репутация полковника Брэндона как превосходнейшего человека, — сказала Элинор, — давно и твердо признана.
— Я знаю это, — ответила ее мать с полной серьезностью. — Не то бы после подобного урока я поостереглась поощрять такое чувство и даже навряд ли его одобрила. Но то, как он приехал за мной, выказав столь деятельную, столь заботливую дружбу, уже достаточное свидетельство, что он — достойнейший человек.
— Однако, — возразила Элинор, — доказывается это отнюдь не единственным добрым поступком, на который, будь сострадание ему чуждо, его подвигла бы одна любовь к Марианне. Но миссис Дженнингс и Мидлтоны знают его давно и близко. Они равно любят и уважают его. Даже и я, хотя познакомилась с ним совсем недавно, успела хорошо его узнать и ценю его столь высоко, что, как и вы, сочту право назвать его братом за величайшее благо, если только Марианна поверит, что может быть с ним счастлива. Но какой ответ вы ему дали? Позволили надеяться?
— Ах, девочка моя! О какой надежде могла я говорить с ним в те минуты или даже думать о ней, когда Марианна, быть может, умирала! Но он не просил у меня разрешения надеяться или моей поддержки. Признание его было невольным, исторгнутым желанием излить душу другу в поисках утешения, а вовсе не просьбой о родительском согласии. Однако некоторое время спустя я все-таки сказала — ведь в первые минуты я была слишком растерянна! — что если, как я уповаю, она превозможет болезнь, для меня величайшим счастьем будет всемерно поспособствовать их браку. А после нашего приезда сюда, после радости, ожидавшей нас здесь, я, повторив это ему еще раз и подробнее, предложила ему всю ту поддержку, какая в моих силах. Время, и не слишком долгое время, сказала я ему, все исправит. Сердце Марианны не станет напрасно томиться по такому человеку, как Уиллоби, а будет завоевано его достоинствами.
— Если судить по настроению полковника, вам, однако, не удалось рассеять его сомнения!
— О да! Он полагает, что чувство Марианны слишком глубоко и нужен очень длительный срок, чтобы сердце ее вновь стало свободным. К тому же он слишком скромен и боится поверить, что при такой разнице в возрасте и склонностях ему удастся покорить ее и тогда. Но вот тут он ошибается. Старше он ее лишь ровно настолько, чтобы характер его и нравственные принципы успели твердо сложиться, а что до склонностей, я убеждена, они именно таковы, какие нужны для счастья твоей сестры. И его внешность, его манеры тоже говорят в его пользу. Нет, моя пристрастность к нему меня не ослепляет: он, бесспорно, не так красив, как Уиллоби, и все же в его облике есть что-то гораздо более приятное. Ведь, если помнишь, в глазах Уиллоби всегда мелькало нечто такое, что мне не нравилось!
Элинор этого не помнила, но миссис Дэшвуд продолжала, не дожидаясь ответа: